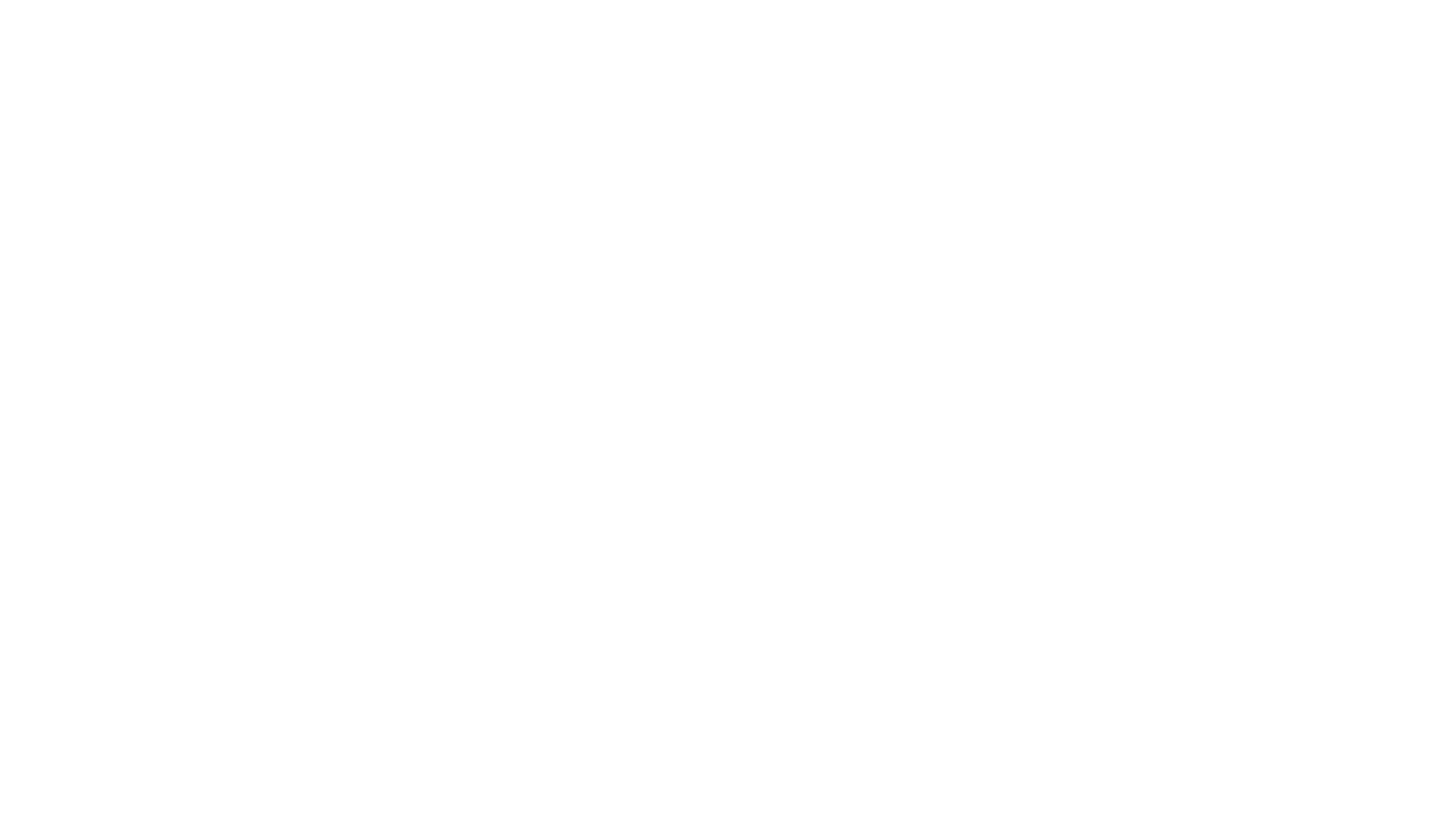

Nota Bene
Отрицаю
я отрицаю, что в каждом запрятан моцарт и муссолини,
что каждый – ружьё у стены
(и когда-нибудь выстрелит), правдоподобность линий
на наших ладонях. и вещие сны.
любой поворот истории отдаю желтокожим сми,
как твои письма, свои сигареты – зубам огня.
так, отрицая, я познаю тот мир,
который изрядно познал меня.
Кого ты считаешь промчем
время признать тебя трусом. себя – врагом.
тормозить о столбы, газовать в кювет,
заиграться в борзую, уйти на гон,
превращаться в минус, сходить на нет.
и во всём оставаться собою, i.e. мудаком.
ты насыщен легендами обо мне, как лев
в зоопарке закормлен мясом. мне незнаком
тот, кого ты считаешь промчем. прости за блеф.
это, может, поможет на день, на два,
сбережёт от ненужных ссадин, пролитых слёз.
ты можешь хранить молчанье. твои права
тебе объяснили довольно чётко, вполне всерьёз.
ну а ты – в обход самых коварных схем,
словно тебя защищает вся королевская рать,
дразнишь меня вопросами «как?», «зачем?».
и я продолжаю нелепо с тобой играть
до первой крови (конечно, твоей) – неуместна жалость
к тем, кто танцует с огнём босиком на кинжалах.
1, 2, 3
улыбаешься так, будто играем в прятки.
по тёмным аллеям, по бунину в пересказе.
снег неприлично липкий, свекольно-сладкий,
ты набиваешь им щёки. кураж-проказник
ведёт тебя той дорогой, к не тем дольменам.
я стар, как желание молодиться.
хочешь найти меня – дай изменам
свершиться – собрать тебе экспедицию.
а дальше играй по правилам: будь задирой,
джинсы, если мешают, разумно снять.
спокойствия – твоему дому, любимым – мира,
тебе – удачи… четыре, пять…
Ажар
у твоих коней порваны уши, разбиты копыта.
ты ищешь меня в петербурге, зовёшь в брюсселе,
изучаешь предметы в музеях пыток.
без цели и страха, подтекста и цели.
люди меняют лица, теряют в весе.
июнь обещает много лесных пожаров.
раздвоенный хвост, многоликость – бесят.
гари оказался каким-то эмиль_ажаром.
или иначе: второго никто не ищет.
залегаю разумно и медленно, как черепаха,
не то, чтобы на второе дно, но на днище,
в самые дебри океанского паха.
рылись в моих вещах, продолжают рыться.
меня не сдают ни мосты, ни улицы.
но когда ты найдёшь меня, маленький рыцарь,
всё очень легко образуется.
С головы
зачатая бегом в июне, рожденная в марте,
тебя никогда не учили, что рыба гниёт с головы?
это правда. и амбулаторная карта
скоро покажет всё. хотя мы не новы.
я пишу тебе “выжат” и возвращаюсь с футбола.
платье падает на мостовую, падает в воду.
я вот так и не смог заглянуть под полы.
в наших играх всегда кто-то – вода.
тебя едят поезда, заглатывают большие змеи.
змеи цвета морошки, цвета свежей листвы.
тебя встречают моллюски, обручают пигмеи.
задумайся: каждая рыба гниёт с головы.
не то, чтобы я другой, я такой же грубый.
выхожу в домино козлом, вызываю бури.
не на “ты” с тобой, пересохли губы.
только что-то будет. с нами что-то будет.
Мне 22
следствие проявило полное безразличие к моим годам.
каждое утро по десять капель экстракта слов.
щупаю нижние рёбра: а вдруг адам?
от меня невозможно уйти, но иным повезло.
подкупая итоги, добавляю ещё один год,
не сделавший меня ни вернее, ни злей.
я вообще не меняюсь, как антипод
дориана грея. среди полей
кто-то сажает детей
в полночь при полных лунах.
и если держаться вестей,
они смогут меня переплюнуть.
Rue paradis
ангел её сбережёт от моих подслащённых слов,
от надменного “тише”, от мрачного “подрасти”.
и от уймы всего ещё. так похож на плов
снег, замешанный в октябре. узнаёшь мой стиль?
останется целовать её глубоко сквозь дым
стареющих паровозов.
на лютом морозе.
и ждать беды.
зима будет жестока к собакам и старикам.
ангел ее увезет в фекан.
в моих трубах зашевелится ска
и онемеет от одиночества.
обвинения в краже её весны – беспочвенны.
всё равно, что врать и не верить в своё враньё.
моя жизнь в яйце в сундуке, а ключ у неё.
и прогнозы на перерасход тепла плачевны
в доме, где каждый незваный гость – вечерний.
ангел её сберег, но пожертвовал мной.
даже если найдется дом на rue paradis,
меня остановят двое на проходной,
захлопают крыльями: мол, уходи…
у нее семья, дети, заботы, тоска.
и ключик на шее от моего сундука.
Сон обещает
сон обещает быть крепким:
кривляли друг другу пруста,
играли в такую рулетку,
её называют здесь русской,
но с водяным пистолетом –
всех обвели вокруг пальца.
мне кажется, этим летом
каналы заполнит valser.
жизнь после людей возможна.
ночь ежевичным соком.
как змеи меняю кожу.
нет времени, значит – сроков.
мне хочется выкупить остров,
куда не ступал даже крузо,
забыть претворяться всем взрослым,
не ставши кому-то обузой.
такие мысли в двуспальной постели
меня посещают вполне успешно,
и сон обещает быть в самом деле
крепким и ярким. меня утешить
ангел родил тебя.
Вместе год
наевшись пыли городов,
я не старею ни на йоту.
и до сих пор не сплю в метро.
чожу с охоты на охоту.
и всё ещё копаю ров
с тем, чтоб найти могилу моря.
европа ближе, не родней.
я так же нагло с небом спорю,
когда оно и я на дне.
мы вместе год. Москва уже
по имени зовёт и помнит.
я всё таскаю в дом ужей
и просыпаю каждый полдник.
загривок в лете, нос – в смоле.
я не взрослею ни на йоту.
так пахнет щавелем с полей,
полынью, мёдом ещё в сотах.
мы вместе в год.
Лотерея
я выиграл тебя в большую небесную лотерею,
пересёк с тобой линию фронта, полоску тыла.
я был тогда герой, я не старею.
хотя ты до сих пор мне это не простила.
то лето пахло рыбой, как теперь
голландцы с непрореженной щетиной.
я пил йеневер, грел тебе постель,
читал газеты, плакал с палестиной.
я был как Бог аккредитован в рай.
я так старался разменять бессмертье
на женщин, на табак, на псиный лай,
что разменял.
Мёд в моём теле
я – лев, а ты – патока в моём теле.
жизнь без надежды, суда и следствий.
в раю, говорят, кто-то ждёт, как в постели,
как мама из школы в детстве.
я обязуюсь окунать слова в твоё имя,
как новорождённых – в купель.
револьвер приставляй аккурат под родимым,
там, где кадык. и в метель
загоняй непридуманных верховых
в погоне за моей тенью.
окропи, наконец, чешую мостовых
кровью. как все хотели
видеть в тебе мессию, отца, пророка.
а ты – мёд в моём теле.
и нам на двоих одиноко.
Моссад
мой дом перевёрнут вверх дном –
здесь кто-то искал тепло.
меня опровергло стекло,
не отражая всё зло
с моей безнадёжностью в нём.
мой восьмой гном,
воображаю, что ты из моссад.
волосы – кофе, глаза – виноград.
кожа нежна, камуфляж грубоват.
нечем дышать. бессон
вечер тянет к утру.
твой голос хранится меж струн,
я необязательно вру,
что каждый в петле невесом.
а вода превращается в лёд,
твой профиль встаёт маяком.
во тьме каждый жест незнаком.
сушу крутит юлой, море – волчком.
время сегодня ждёт
восемь круглых часов
прежде, чем спустить псов.
Ножница
словом, друг друга почти исчерпали.
мы порознь легко без причин засыпаем.
миловать-невозможно-за-это-казнить.
искры не даёт зажигалочка пьезо.
между нами такая тончайшая нить,
что я не найду, где разрезать.
Говори ещё
расскажи мне, как спится на шёлковых простынях,
как красить ресницы, не думая о плаксивых днях.
как высчитывать калории на обедах,
что фитнес по четвергам, а английский по средам.
как тебя дурачит правительство про всяких шахидов,
а соседку по этажу зовут женечка или лида.
как она приходит на чай с печеньем и остаётся с тобой до утра.
что у тебя полное сердце, а у меня внутри дыра, дыра.
говори со мной исключительно о ерунде,
ведь уже очевидно: не быть беде.
и как на седьмой раз вы играете в морской бой,
как живущие на madison street тебя называли boy,
а в солнечные деньки, бывало, и dude.
и снова как всех нас дурачат, пока не убьют.
мол, всё, что осталось стрелку – передёрнуть затвор.
что твой шеф, несомненно, бессовестный вор.
а у тебя до сих пор хранится мой подарок на первое рождество.
от таких разговоров одни дуреют, другие сходят с ума.
третьи от них заражаются, будто они чума.
а меня преследует этот голос даже во сне:
все твои интонации, восходящие к «нет»,
протяжённость шипящих, не знающих себе счёт.
говори со мной снова. говори ещё.
Par avion
влюблённая в ворох осенних клёнов,
шепчешь в ладони, сминаешь платье.
париж. полусонный таксист удивлённо
повторяет за тобой адрес. хватит
уже. поберегись.
цвета слоновой кости туман превращает в олово
слёзы. не залечу тебя самолётом назад.
как я хотел тогда твою голову
сжимать оголтело руками, ловить глаза.
и дождило за городом, север вползал в карман,
тебя доставало ужинать в тишине.
недоросшая ещё до глубоких ран,
даденная не Богом, а случаем мне.
потом за рассветом приближалась твоя печаль,
начинаясь крикливыми снами, холодным лбом.
ну а если ты продолжала скучать,
к обеду присоединялась и боль.
фасовали россию конвертами пар авион.
не спасали ни водка, ни молоко.
ты предпочитала играть с огнём,
нежели с детским «к тебе далеко».
а затем началась зима
неожиданней прошлых бед.
я не успел к тебе.
и никогда не успею.
Остаточное
лёд, приложенный к голове, теряет и вектор, и прежнюю силу.
а мне ещё хочется размозжить тебе череп.
хотя опоздал: твоя смерть как всегда подкосила,
сбила с толку. и я вот хожу только через
подземные переходы, чтобы не видеть автомобили.
знаешь, как страшно остаться в живых и метаться
как мальчик, забытый отцом в супермаркете билла?
я был таким тогда – дрожа, глотал metax’у.
я и сейчас такой. твой старый ортодонт…
единственный тебя узнал в той горке мяса.
я пил тогда вино, я мямлил «don`t».
я ничего не знал. мне до сих пор не ясно,
как ты посмела без меня бежать.
когда мне жмёт весь мир,
он мне и раньше жал.
Луиза
та сука ждёт щенят, пока я здесь.
пока я ранен, наголо острижен,
прописан в лепрозорий весь, как есть,
та сука… впрочем, где-то под парижем
тот дом, где я остался целым.
где молоко не стынет до утра,
где каждый верно дышит под прицелом
тугого солнца. травы от ковра
не отделить. смерть отравляет быт –
забрызганные простыни есть ад,
напоминание о нём. и я забыт,
пока та сука где-то ждёт щенят.
Смиф
смерть – это миф. это то, чем пугают в детстве.
у неё нет запаха, нет симптомов.
мы ещё выпьем, когда бродскому стукнет двести.
смерть – это война и мир. третий том.
принято молчать как один, но тебя уговариваю.
смерть – это ласковый мальчик, солёный лоб.
смерть – это винт, сноубол и какое другое варево.
смерть – это как сейчас. смерть – это вовсе нет слов.
а пока ты пьёшь молоко, просыпаешь работу,
улыбаешься мне, несёшь всякий бред,
играешь в мальчишку, любишь субботы,
смерти нет для меня. и для тебя – нет.
Как швы
думаешь, больно? тогда посмотри сюда:
прошитый какой-то влиятельной пулей
я тебе больше не сдался. была среда.
твой мегаполис превращался в улей.
снег всё не шёл, я упирался в сталь
немым лицом – придатком головы.
хотел тебе поводырем – не стал.
мы расходились, как наложенные швы
от резкого движенья. снежный ком
покорно таял в шахте пищевода.
я целовал тебя в висок виском
в последний раз. на площади свободы.
Нас_всегда
чую тебя спиной, подернутой плавниками,
упрямым хребтом, равномерным подвздошьем.
жизнь превосходит кинутый в небо камень
и скоростью, и ударом. оставить в прошлом –
все равно, что оставить пиджак таксисту.
не похвастаюсь памятью на номера.
на перекрестке диастол-систол
регулировщик сбит насмерть. внутри дыра,
схожая с ней же в сухом колодце.
неоспоримость вреда алкоголя
нас вынуждает начать колоться.
мой циник давно породнился с горем.
убивая в тебе своего близнеца,
нахожу нас чужими, как будда и брут.
но по-прежнему чую изнанкой лица.
навсегда – это слово, которым врут.
Мой мёртвый
когда этому мёртвому в который раз снится,
как лето сплавляется по течению в осень,
как снег большие камазы привозят,
как по орлятам тоскует орлица.
как его мотоцикл пролетает по чьим-то птенцам,
как они умирают. как умирает он сам.
как его словами разжигают большой костер,
и хароном представляется билетёр.
он силится скинуть тяжёлые руки сна
и возвращается раньше. ещё весна.
из его планов возводится небоскрёб.
и вот ему снится: приходит его черёд.
и бесполезность денег, беспомощность докторов.
обезболенность сушит/ломает рот.
у лабиринта морфея ни дверей, ни ворот.
никогда не проснуться, не выйти, не избежать.
все, как один, по нему скорбят
бесконечно тоскливым “мне очень жаль”.
а я просыпаюсь.
и узнаю в нём себя.
Квиты
ты больше не встанешь. я сяду. теперь мы квиты.
понятые, очные ставки, допросы.
спокойные ночи, обмененные на папиросы
«беломор». и кровью заляпан свитер.
одиночество предприимчивей, чем хотела.
ты мне не снишься сороковой день кряду.
а снятся машины, клубы и автострады.
и опознание твоего тела:
её истерика, нашатырь, наконец, «узнала».
сломанный таксофон, деловитый почерк.
мои разговоры с Богом от ночи к ночи
добавляют страстям особенного накала.
а в целом я честно до колик довольна,
что всё получилось без криков и боли.
что воля внутри порождает неволю,
что мой адвокат – лоботряс-алкоголик.
что кончено. всё.
Утро
после вскрытия весь мир возликует,
что яд попал изначально в мою слюну
от предутреннего её поцелуя,
который я невозмутимо сглотнул.
не угадают, как было вязко и сонно
ступать в меняющий запах душ.
зато ей припишут связь с пентагоном
и прошлое в мулен руж.
очень скоро ищейки из интерпола
испортят нюх о её следы.
а я буду спать отвратительно голый
в земле, не меняющей температуры воды.
Слепота
утро проспит нашпигованный жестью будильник.
моё слово в каждом находит эхо.
люди мечтают, чтобы их полюбили –
я больше провала всегда опасаюсь успеха.
радужку тренирую не отличать друг от друга
молибденовость ночи/электрические гитары;
зрачок – не следить за стрелкой, склоняющей к югу
север, в сединах скрывающий свою старость.
и чтобы слепой как крот, тупик или выстрел –
различал только взмах, а не цвет окровавленной тряпки.
от быка я хочу унаследовать «гибнуть быстро».
от людей – утверждения «всё в порядке».
мир слепых – это молочный привкус горячей кожи,
откровение бронзы, венчающей чью-то трость.
я уверен: за закоптелыми линзами можно
скрыть шрапнель неудач и исходную злость.
Стагнация
продолжает писать мне: «тебя люблю»,
если это вмещается в смс.
продолжаю кончать под отменный блюз,
если это имеет какой-то вес.
начинаю предчувствовать пустоту,
ибо время почти выходит.
у неё начинает горчить во рту,
ибо горечь есть вкус свободы.
завершаю роман небольшим костром,
т.е. дань отдаю бумаге.
завершает искать себе новый дом,
т.е. найдя почитателя в праге.
неохотно ложимся в одну постель,
засыпаем, боясь признаться,
что кончилось время для новостей.
и началось – для стагнации.
Клон
ты – клон моей подлости. калька из калек.
на передовице воскресной газеты
вас находили, хотя не искали,
в приличных отелях. вы полураздеты,
пьяны и довольны. и, кажется, вместе.
четвёртые сутки, восьмые недели.
ты спишь на мансарде в разобранном кресле,
грозишь мне разводом, имущество делишь.
меня нарекают «кретином» соседи,
пока он меняет на доллары баррель,
пока ты мутируешь в миссис и леди,
пока я штурмую ближайшие бары.
а помнишь, когда-то мне прочили славу
высоцкого, бродского, кафки и чёрта.
ты проявлялась во всех этих главах
моих эпопей. независимо чёрной
казалась нам ночь. в середине финала
ты что-то такое печальное знала,
что плакала, всё мне всегда разрешая.
ни бедность, ни молодость нам не мешали.
но время всё вышло в абсурде, попойках,
моих путешествиях в койку из койки.
ты – клон моей подлости,
но до меня тебе далеко.
1939
на голой площади, где не осталось птиц,
кто-то, смотрящий предельно вниз,
стоял у стены параллельно скопленью лиц
и каждому рядовому шептал: промахнись.
оставалось состроить планы на новый год
с решением Бога. лежащему у стены
было чертовски холодно. шла в расход
вторая обойма. я собираю сны.
каждым живущим отныне владеет страх.
письма вскрывает невидимый комиссар.
если бы знала, как в этих ночных кострах
корчится от досады сартр.
я засыпаю в ритме солдатских пли.
твоим маякам недостаточно парохода.
и я клею бумажные корабли,
дожидаясь тысяча девятьсот сорокового года.
Игла
почему ты не пишешь мне и никогда не звонишь?
а если нас стравливает метро, то сливаешься с каждой из мраморных ниш?
почему всё изломано в мире и правильно на войне?
успокоение приходит не в сексе, а в крепком сне?
почему все кумиры обращаются в пепел, золу и крыс,
исключая тех, кто в удавку, петлю, карниз?
словно мёртвый всегда красивее, чем живой…
почему твой подъезд вечерами пахнет травой?
и на кой все красавицы знают о своей красоте
в то время, как не те не догадываются, что они не те?
и зачем, наконец, я это теперь пишу?
ибо любое сердце перекрывает шум,
если оно преломляется бумагой с карандашом.
помнишь у меня под ключицей уродливый шов?
ну так вот: я больше не верю, что он от крыла.
просто у хирурга в тот вечер дрожала рука, т.е. игла.
и ты ни от чего меня не сберегла.
не то, чтобы не хотела. но не смогла.
Без нас
от смеси причиноследствий в глазах темно,
ножи предсказывают беду.
ищу тебя в алфавите, семействе нот.
и очень боюсь, что найду.
весна бракует мои слова.
нам с тобой на руку дождь.
если спешу, то едва-едва,
ты же один не уйдешь.
и мы
до неба полетим вместе,
там допоешь мне песню.
твой голос – всё, что осталось
от желания миновать старость.
еще остов сгоревшего автомобиля,
все сплетни, ставшие былью.
поезда, заслонившие земной шар,
твой нескончаемый шарм.
мои никому не раскрытые вирши,
но нас молниеносно уносит выше.
у домов отвратительные фасады –
повезло оказаться в нужное время рядом.
в лифте, где всё решено за нас,
кнопки являют декоративный фарс.
начинаю скучать по дому,
своему ноутбуку, друзьям-знакомым.
«навсегда» отдает миндалём и ватой,
его непомерность кажется пресноватой.
черты твоего лица становятся месивом месив.
мои характер-привычки всё меньше весят.
приходит мысль, что никем не стану,
между тем подо мной нераздельны страны.
твой голос кончается гулом чаек.
не могу перечислить всех, по кому скучаю.
не помню ни лиц, ни имен, ни пола.
одно ощущение: будто голый.
и ни жалости нет, ни боли,
ни тебя, ни меня. довольно.
и вот уже дети проходят нас на уроках,
весь мир предвкушает угрозу с востока.
наши любимые верят другим героям.
америка хвастает социалистическим строем.
и мир не рухнул.
Уилл/смит
сменяет второй самолет,
а до этого поезд, такси, паром.
из каждого виски съедает лёд,
не разбавляет ром.
представляется то карениной, то уилл, то смит.
просит двухместный, но в одиночку спит.
взаперти читает как Отче Наш
тонкую стопку писем – её багаж.
и словно молится секте почтовых крыс.
путает с именем мужа: то жан, то крис.
бежит ниоткуда, но будто бы видит цель.
каблук застревает в утре, как соль в яйце.
и никого не преследует, и не ждет –
километры наносит на раны, как будто йод.
тут Богу становится ясно, что нет никаких детей
и никого, кому постелить постель;
что Он забыл про нее, как заплатить за свет.
и мужа, по всей вероятности, тоже нет.
Бог думает, как исправиться, но не может ее найти:
следы так петляют, что не разобрать пути.
Он вовсе не помнит, на какой адрес писал.
оно и понятно: наш мир как большой вокзал,
где провожают единожды, без надежды увидеть вновь.
а она сменяет второй самолет и верит, что это любовь.
Вулкано (эйяфьядлайёкюдль)
за окном ютятся самолётики среди ворон.
у меня в кармане димедрол, верошпирон.
я мешаю в равных долях с колой и тоской
это время, дабы обрести покой.
в сотовых от ос – сплошной туман.
не работают границы между стран.
сутки тянутся, как клей или слюна.
разминаюсь от дверей и до окна.
в небесах – заваруха, у вулкана колики,
я не сплю четвёртый день, пью анаболики.
коротаю пытку в залах ожидания,
жду тебя в сознании и без сознания.
я хочу уснуть на марсе, а проснуться на юпитере,
чтобы превратиться в новости из телезрителя.
может, ты меня увидишь на своём экране.
я жду тебя четвёртый день. и я уже на грани.
служба безопасности вся во внимании –
говорят, на сотый час начнётся мания.
мой засохнувший букет давно в корзине,
и кончаются напитки в магазине.
в небесах – заваруха, у вулкана колики,
я не сплю четвёртый день, пью анаболики.
коротаю пытку в залах ожидания,
жду тебя в сознании и без сознания.
я уже не верю в пепел в атмосфере,
а вот в заговор всемирный начинаю верить.
но от моих гипотез самолёты не взлетают
и продолжают прохлаждаться в тесной стае.
моя спина врастает в сети терминалов.
воздушный коридор – уже пенала.
мне кажется, я проведу лучшие годы
в ожидании более-менее лётной погоды.
в небесах – заваруха, у вулкана колики.
я не сплю четвёртый день, пью анаболики.
коротаю пытку в залах ожидания,
жду тебя в сознании и без сознания.
в небесах – заваруха, у вулкана колики.
вот закончились мои все анаболики.
я останусь навсегда в зале ожидания.
как ирландия в плену британии.
без сознания.
SVO
самолёты, не в пример рейтингам,
снегу и всевозможным курсам,
не падают. я хочу перейти на летнее
время. режим экскурсий
позволяет пропускать твои вызовы.
это ли не свобода?
ты потом меня выищешь-вызвонишь
по закону подлости, т.е. природы.
шереметьево ночью хлеще любого вокзала,
зато одиночество планомерно,
людей как огромным приливом слизало =
что-то из утверждений верно.
я легко скрываюсь среди таксистов
и любого такого люда.
на берегу моих бурных систол –
обломки пластиковой посуды.
и что-то колючее попало в глаз,
как пузырёк из колы.
не поверишь – на этот раз
это самый большой осколок.
Пейзаж
если ничейность кого-то красит, то лишь пейзаж:
триста лет как буфет, ателье, бакалея,
море, в него основательно впаянный пляж.
нет ни шрамов от сгиба, ни пятен от клея.
ниже по улице лавки, забор,
штраф за парковку не там и не с теми.
в конце тупика местечковый gabor,
заправка, тоннель. и граница системы.
выйти навряд ли составит труда.
но вот где окажешься, выйдя из мира,
тебе предназначенного, не загадав,
чтоб утром явиться в свою же квартиру?
и белым творожным пространством извне
забив поневоле все рамки и щели,
ты влюбишься снова в картинку в окне,
пусть вид скучноват, пикселит. но священен.
вернёшься – и старый буфет, ателье
вдруг примут иные фактуру и форму.
так черти вопят от восторга в котле,
уютно плывёт грузовик в колее,
и так, как сосна, проникаясь к смоле,
привязан смычок к отставной канифоли.
Мэйл
регулярно вскрываю десяток писем.
одно от друга. считает чаек
и предлагает: давай зависнем
в красивом сальто. я не скучаю
по декорациям. в прошлом дрейфе
мне приходилось встречаться с разным
раскладом тел. и частенько эльфы
напоминают людей. всех сразу.
вторым письмом непременно режусь.
не по случайности, как бумагой.
а преднамеренно. мне всё реже
даются чувства, как будто фляга
залита клеем. её “не стали”
я принимаю как смену суток,
как непомерную прочность стали.
ну, незачем больше громить посуду,
как некогда плакать, что постареем
(она быстрее) в различных странах,
обзаведёмся детьми. и всего скорее
они не встретятся. вот что странно.
ещё есть письма от разных третьих,
которым в принцип со мной на крыше,
плевав на бинокли, усталость, ветер…
такая романтика. если б слышал
их всех мицкевич – всё было б ясно.
другие письма о том, что сроки
и кризис. и другие яства
нас уничтожат. тонут строки
об иерархии, беспределе.
не густо фактов, а места много.
а если честно и в самом деле –
я жду единственного письма.
от Бога.
Фауст
грустно мне, бес. пустота/тишина ещё никого не спасали.
меня оставляют люди, как тени в кромешную ночь.
я знаю, что нет, но хочу, чтобы она ходила по дому босая,
смеялась чисто, пила вино.
и ничего не могла рассказать о том, что такое дно.
и ложилась спать, не помышляя кошмарных снов.
чтоб мы просыпались вместе в одной постели, прогретой без одеяла.
зацени, как мне мало нужно, бес, ничтожно мало.
курили одну на двоих: то её, то мои.
топились умышленно в этом тепле, как «варяг» и тому подобные корабли.
вот если чуть-чуть отсюда мотнуть назад…
и хорошенько представить, закрыть глаза,
то в лесах ещё снег, и рельсы звенят струной.
тёмно-зелёный скорый, по всей видимости, ночной,
несёт её ко мне так уютно, словно домой.
но это всё будет, бес, скоро, если на небе дадут добро.
а теперь посмотри на меня: видишь, вспорота бровь.
от нескончаемой боли вокруг я становлюсь больней.
как мало было коротких и много длиннющих дней.
я себя уличаю в том, что думаю только о ней.
страшно, что это кончится с утром или глотком коньяка.
представляешь, в первый день марта соседская сука домой принесла щенка.
а я мысленно превращаюсь во всё, чего коснулась её рука.
я тебе сейчас рассказываю о том, о чём не принято говорить.
посмотри на эту тонкую между нами с ней нить,
бес, это единственное, что мне хочется длить.
Бей вальта
за снами смерть, за нею пустота.
я доконал священное писание.
по складкам, залегающим у рта
табло, не видно расписания
тяжёлых твердолобых поездов,
паромов, тяготеющих к цунами.
мои побеги так надуманы, как лов
трески в москва-реке, как смерть за знамя.
но мысль о невозможности уйти
ещё нелепее, а посему страшнее.
на «революции» от кроющей тоски
овчарке стёрли нос. и я её жалею.
под неслабеющим вниманием времён
звереют все наследники престола.
и им всё реже снится вожделенный трон,
всё чаще девочки и скакуны для поло.
вот так и я, теряя связь с тобой,
от ожиданья ноющей занозы
вдруг с головою ухожу в запой,
паденье йены, метеопрогнозы.
не веря, что тебя ещё коснусь,
ведь дама пик извечно бьёт вальта,
я безмятежно отхожу ко сну.
за снами смерть. за нею пустота.
От матфея
«и если свет, который в тебе – тьма?»
то какова она на самом деле?
когда на поле расцветает мак,
и сладко спит ребёнок в колыбели,
от парохода остаётся млечный след,
а солнце продвигается к востоку,
и если тьма, во мне живущая, есть свет,
тогда ему там несравненно одиноко.
я с каждым днём смиренней и добрей,
и скоро стану так хорош для мира,
что кто-то ночью мне откроет дверь,
ведущую на небо из квартиры.
вот вечерами собирая чемодан,
я сочиняю длинный список хлама,
который по задумке мне заменит там
леса, друзей и городскую панораму.
но что-то всё всегда не то.
в таких делах никто спешить не любит.
и утром выудив со дна пальто,
я спешно обнуляю сборы,
себя вторгаю в шумный город,
и мне, как никогда, приятны люди.
1000 и 1 ночь
пусть эту сказку расскажет потом ходжа насреддин,
такую муторную и пустую, как опиатный дым.
про то, что я всё потерял и везде наследил.
прожорливей «красина» разгрызает льды
весна. аллергия, герпес и гайморит.
в затрапезном кафе белолицая девочка уверенно говорит,
что по слуху едва отличишь, идиш это или иврит.
а я думаю о тебе – я теряю сердечный ритм.
мой мир теперь сделан из одноразового пластикового стакана,
покуда его не наполнишь – я не стану даже живым, не то чтобы пьяным.
играю не в города, но перебираю страны,
куда бы сбежать от этой чумы, а вирус уже обживает раны.
и единственное лекарство – сыворотка в твоей слюне,
а она во рту, в голове, голова на плечах, а я в тюрьме.
и как не выплёвывай крючок – он в жабрах, как ночь – во сне.
солнце втянул крокодил с моими мечтами о светлом дне.
я всё время молчу, потому что слова изречённые – это ложь.
моя жизнь – перекати-смешанное-поле-пшеница-рожь.
а я верю, что ты появишься и всё залечишь, и заберёшь.
за окном три часа ночи, снег обращается в воду. а ты не идёшь.
Фото_30032011
я хочу, чтобы эту фотографию Бог поставил в рамку:
мы с тобой в зеркале лифта с четвёртого по первый этаж.
мои блистательные двадцать три мне даже теперь не дашь,
несмотря на умение превращать в атомную воронку любую ранку.
едва заметный шелест лебёдки. предпрощальный мандраж.
земля под ногами морщинится и сборится –
ощущения, не включаемые в рихтерову шкалу.
а там, в отражении, мы такие родные, единолицые,
как будто нас кто-то отлично сшил, но забыл иглу,
и она разрастается до размера вязальной спицы.
но смотри: дёрнешь нечаянно – шов поползёт.
рискни, ухвати себя за хвост, как весна – за осень.
у тебя никакие не карие, это просто йод.
последний приличный фотосалон закрывается ежедневно в восемь.
но за нашим снимком никто никогда не придёт.
Дрим
если ты вдруг присылаешь мне пачку открыток, и они все
изображают розовощёкого нильса, летящего к пропасти на гусе,
и только на последней – тобой нарисованная едва узнаваемая лисица,
то мне это всё просто снится.
если мы наматываем пятый круг по садовейшему кольцу,
вместе нелепо изображая, что ищем цум,
то у нас абсолютно наивные детские лица.
и мне это всё просто снится.
если перепуганный до чёрта стюард рассматривает мой пластит,
пока девушка, сидящая между нами, безмятежно по-ангельски спит,
пока я ору, что мечтаю всего-то с тобою разбиться,
то мне это всё просто снится.
или мы – ты на нелепо чалом, я на безвредно гнедом –
залихватски хрустя сломанным под копытами льдом,
боимся друг другу признаться, что окончательно потерялись в битце –
то мне это всё просто снится.
ну и, конечно, как мы поднимаем флаг на эльбрусе,
набираем рекордное количество баллов в парных упражнениях на брусьях,
налаживаем дипотношения между россией и грузией,
преодолеваем марсово поле то фляком, то колесом…
это, как, я полагаю, уже все догадались – сон.
потому что на деле мы чужее друг другу самых чужих-чужих.
чужее, чем патриарху – работник круглосуточного интима,
чем белизне центральной клинической – потолочная паутина,
чем единственному погибшему в дтп – семеро, чудом оставшиеся в живых.
между нами всё так и вышло.
левым разворочённым боком. как дышло.
Тринадцатый
разве что каждому Богу полагаются 12 апостолов
плюс тело, источающее смирну и ладан.
так и я к тебе не то приписан, не то прилажен,
если бы только знать, что после бы…
была история, которой меж нас не будет.
ни начала, и ни конца, и ни прелюдии.
ожидается, что я стану как странный и непонятный зверь,
единожды вкусивший человеческого тепла.
если считаешь, что в тебе незаметен источник зла,
надо признать, ты многое принимаешь на веру.
не за каждым из коридоров ожидается лестница –
мир жесток: здесь надо сначала найти где, а потом повеситься.
ты не приезжаешь за мной ни в восемь, ни к девяти.
это только начало в списке глаголов с частицей «не»,
кои ты никогда не применишь как акт ко мне.
если внутренний голос куда-то зовёт, это ещё не повод туда идти.
и да, конечно, мой голод по тебе несравним
ни с голодом моисеевой паствы, ни с Ним самим.
наша трагедия без начала и без конца.
днями, ища тебя, я утыкаюсь всегда в потолочный свод.
ночами – в стволы, за которыми целый взвод.
а ты так хороша, что хоть воду пей с твоего лица.
с этим началоконцом, заметь, я опять повторяюсь в словах.
без сатурации, и без цитирования, и без итогов.
мне вдруг начинает казаться, что я достигаю многого,
осмысляя возможность сказать тебе: иди нах.
Тшшш
никогда не касайся тем этих, моей души.
я заделал все дыры, я всё зашил.
я обтёр до остова столько шин.
помолчи со мной, как умеешь, да подыши.
я везде опоздал, куда так спешил.
там, откуда я, ночь уже.
мальчики в арафатках, девочки – в парандже.
марс всё время требует новых жертв,
но меня бракует как неликвид.
если хаос у нас бывает, то здесь царит.
солнце по цвету отдаёт медью, земля – кирпичом.
знаю: у тебя столько дел, и всё бьёт ключом.
но найдётся, должно быть, время помолчать со мной ни о чём.
мысленно кладу голову на твоё плечо.
помолись потом за меня. я устал как чёрт.
потолкуй потом с Богом, у тебя там блат:
меня не берут ни пули, ни сталь, ни булат.
все меня полюбили. и юный мальчик-мулат
мне приносит в ладони подтаявший шоколад.
от него сохнет глотка до самых гланд.
из профессий тут только простые: военные и врачи.
у меня одноместный бунгало. сегодня дали ключи.
не спалось поначалу. а вчера снились аисты и грачи.
подожди, прикурю последнюю. спички. чирк.
помолчи со мной. я тоскую. ещё чуточку помолчи.
Изнутри
куришь уже в рубашке, а спишь в пижаме.
горячее в речах и раскованней в снах.
из тех, с кем знаком, до финиша добежали
самые осторожные. и это не лучший знак.
на ресторанной вывеске выглядит столь потерянной
обесточенная без повода на то «ё».
и вот на вечерне уже фабрикуешь истерику:
Бог, забери своё Божье, верни моё.
зрелость, за которой старость не явится.
как непродолженный числовой ряд.
зато каждая малолетка теперь красавица,
и непомерно прекрасно утро первого января.
дни принимаешь как чаевые, с почтением.
мол, что-то ещё положено. и повезло.
начинаешь считаться неславным со временем,
но это только до столкновения с настоящим злом.
в тебя всё капает пустота из пипетки.
пока как-то утром соседка не вскрикнет: смотри!
обнаружив тебя под лестницей, как деревянную статуэтку,
выжранную термитами изнутри.
Эмо_инвалид
вот почему-то не происходит со мной ничего такого,
что дало бы мне право позвонить тебе среди ночи.
герои тв-сериалов обычно впадают в кому,
теряют память, детей или даже (!) одну из почек.
а я всего-то смотрю на небо то в архангельском, то в кусково.
и явственно слышу, как оно надо мной хохочет.
я наследую все шаблоны – что дорого, то и любо.
может, пора уже сесть на иглу или лечь под шефа?
а для начала хотя бы побить посуду
или выкинуть из окна планшетник.
слышишь, как звякает о её зубы
туго завязанный амулет на твоей бесподобной шее?
видишь, как она пересматривает сотый раз на ю-тьюбе
все твои передачи в случайном порядке?
тут ещё крупный план, там тебя заслоняют люди.
а вот ты в самолёте. и мягкой тебе посадки.
да, она наследует все шаблоны – что дорого, то и любо.
посему не ведает, где очутилась, несясь к тебе без оглядки.
я почему о себе в 3-ем лице, вспоминая такие моменты –
психологи уверяют, что оно нивелирует лишнюю близость.
я же всё чаще срываю небесные аплодисменты,
потому как успешно не довожу до лезвия и карниза.
может, когда всё закончится, ты мне выплатишь алименты
за мою приобретённую эмоциональную инвалидность.
Смертэфир
было о чём говорить. но не надо сметь.
пред тобою – патока и эфир. за тобою – смерть.
я становлюсь поэтом, чтоб не прослыть немым.
я снова придворный милый пугливый мим.
из окон выходят, если на небе ждут.
а меня поджидают в итоге швы, а в начале жгут.
торможение кровотока и полный анабиоз.
я, видишь ли, не хватаю ни жаворонков, ни звёзд.
тебя у меня воруют осень, апрель, июнь.
и даже январь, хотя откровенно юн.
ты не канат, чтобы тебя тянуть.
не караван, чтобы держать свой путь.
и не звезда, чтоб на тебя смотреть.
ты патока и эфир. ну и, конечно, смерть.
всё, что со мной происходит, случается без тебя.
больше баранов волки любят ягнят.
мы то порознь, то по отдельности, а то врозь.
у меня погибает кураж, подрастает пёс.
ты меня запасаешь на чёрный-пречёрный день,
если вдруг одиночество или мигрень.
помещаешь в гербарий среди однолетних трав.
видишь, я злюсь на тебя. значит, я не прав.
Ну хотя бы ты
пока другие сжигают, я возвожу мосты.
туман обиженно надувает щёки.
расскажи-ка, Господи, ну хотя бы ты,
откуда на моём теле все эти кровоподтёки.
мысли редеют, глаза как кисель густы,
слюна застывает бороздкой на подбородке.
расскажи же, Господи, ну хотя бы ты,
как выкатывать звук из глотки…
чтобы шар, скользя, добывал мне страйк,
чтобы слово бесшумно сверлило темень.
раньше ночами меня развлекали кобейн и майкл,
а теперь ещё ненаглядная девочка эми.
я как большой грузовик – через всю страну
провожу в алюминиевых банках праздник.
пока не расскажешь, Господи – не засну –
почему же меня беспрестанно дразнят:
в темноте различимый профиль, бокал бордо,
спутник, нелепо белеющий над москвой.
или этот стареющий мажордом,
стерегущий её похлеще сторожевой.
видишь ли, не пойму, в чём соль.
на дне черепа не желе – отвар.
сотвори меня лучше белой пустой овцой.
либо светом её перламутровых фар.
В моем седане
и если это даже уже не вопрос чести и естества –
в цене теряют характер/хорда, а не слова.
забери меня на ночь под одеяло –
солнца становится слишком мало.
осенью густо краснеет листва.
я нарезаю круги, как коршуны над столицей.
сидя на крымском мосту, девочка думает утопиться,
ибо это не жизнь никакая, а фарс.
её минуя в третий последний раз,
чувствуя уже между нами родство, я вызываю полицию.
но водолазы её находят на третий день.
то, что было некогда девочкой, обращается в тень
на пассажирском в моём седане.
в мире, где Бог не даёт свиданий,
я обретаю друзей из хроник и новостей.
мы с тобою не видимся, ибо ты мой крах.
все твои сёстры, сожжённые на кострах
во времена инквизиции,
являют свои удивлённые лица:
«почему у тебя там тепло, где у смертных страх?
почему у тебя к ней дело?
не боишься за душу – берёг бы тело…»
я опять проезжаю свой поворот.
потихоньку кончается этот год…
тот, в котором меня обольщает демон.
и покажется на минуту, что всё по-старому:
я запишу слова, полные мёда и молока.
захочу опять быть всем, чего коснулась твоя рука.
и моя бесценная кровь потечёт в твоё горло даром.
и ямщик, а точнее таксист, понимающе усмехнётся
на моё ворчание через сон на заднем.
снова напроисходит столько такого за день,
что легко растянешь на месяц и два колодца.
твой номер узнает меня по шагам в коридоре,
твой портье – по пакету из булочной за углом.
я поныне не знаю, как ходит ферзь или слон.
и снова не помню, какое на ощупь горе.
какие на вкус горечь и пустота,
каков у отчаянья запах стойкий,
когда просишь двойной, залипая у барной стойки.
и до психоза ровно одна верста.
на моих пальцах поселится пыль от мелка.
я зарисую тебя прямо на обоях астории.
и почудится, будто это начало прекрасной истории.
а это снова избитый конец дня сурка.
поздно ли, а возвращаешься к этому каменному мосту –
к собственному убогому постаменту.
здесь мы, бывало, прощались, утрируя все моменты:
вот поцелуй, отрицающий Бога и красоту.
вот ты садишься в машину, как на персональный электростул,
и уезжаешь в пустую звенящую пустоту.
вот я обращаюсь в выводок брошенных стервенят.
тебе ничего не найти там, где нечего больше терять.
глупыми недоделками нас созерцают вещи.
навряд ли ты вспомнишь – глухая бесформенная стена –
видит ночами, как я возвращаюсь сюда одна.
без смысла и даже надежды на встречу.
фонарь у кафе со мной коротает вечер.
«не делаю ничего» едва отличимо от «делать нечего».
вот лифт наблюдает твоих бесконечных шлюшек.
ну и пускай. если тебе так лучше.
пыталась бы выйти сухой и живою из этого лета –
бежала бы в ниццу, марсель или рим.
но демон отсюда так неподражаемо мною любим,
что мне не оставить его. до рассвета
я в пляске с тенями как дым сигаретный
собой разбавляю грядущий июнь.
«символика духа». карл густав юнг.
как в бакалейной лавке старики
заводят вечный спор, где лучше крупы,
потом о кеннеди, о положении трупа.
и об актрисе, что за год дала всей труппе…
и все слова в трубу, как дым легки,
слетают с губ, что бабочка с руки.
так я, опоры под собой нигде не чуя,
хватаюсь как за ветки – за дела.
где мои девочки? та, верно, родила.
одна лгала, другая вечно зла.
а третья закусила удила.
мечтающего жить к утру линчуют.
а мне – дымить и тлеть как палочке пачули.
а что ты хочешь? всё наоборот
в моём кривом зеркальном королевстве.
и коль служить стране решаешь с детства,
тебя отсюда выдворяют с треском.
и пастухов на север гонит скот.
да и тебе под солнцем будет место, мой милый крот.
не то, чтоб неуютно; лучше б это,
чем килотонны вечной мерзлоты.
хотя бы униженье. или стыд.
или расстрел за к императору на «ты».
а тут всего-то дорожают сигареты.
да и какое-то (уже не счесть) минует лето.
и по ночам ещё разводятся мосты.
говорит мне: прости, родная,
чёрную метку в кармане тебе несу.
не выходит от наших слагаемых верных сумм,
потому привношу вот такую вот чёрную полосу
девочке, которую обещался поднять со дна я.
ты уж не обессудь, родная.
знаю: ни словом, ни делом не попрекнёшь;
и камлать не пойдёшь по бывшим, орать по барам,
что кормила мёдом, поила кровью – и всё задаром.
что лишилась и дома, и снов, и дара.
и теперь не устраиваешь делёж.
даже этим не попрекнёшь.
говорит: я привык к середине, а ты за край,
выше этих чёртовых москва-сити.
он же всё-таки не дурак какой-нибудь, а спаситель,
раз подвесил за жабры, то так наставлял: висите.
так что даже меня не подначивай, удирай.
ты же любишь всегда за край.
говорит: пришёл вот к тебе. и дождь.
если помнишь, у нас так всегда бывало.
мне, конечно, нравилось, как ты убивалась,
но всегда казалось, что ты привираешь малость.
а теперь тут лежишь вот средь свежих ям…
и меня вынуждаешь стоять и искать изъян
на твоём очень гладком лице. ты такая дрянь.
ты такая дрянь...
на винокурнях вечер. винный жар
уходит долей ангелов с земли.
недолюбил изрядно, но дожал
твой Бог тебя. ты, верно, на мели;
и распадаешься на крохотные части.
давай поговорим о счастье.
март не торопится, малышка эми джейд,
и мы опять юзуем по столице.
прости, на этот раз не дам тебе вожжей –
оголодала местная полиция,
а ты мертвее мёртвых второй год.
и твоё имя пущено в расход.
мир пережил тебя, изрядно прожевав,
и так остался ленно неподвижен.
и сквозь тебя крадутся стебли трав,
и даже твой дружок-придурок выжил.
а нам с тобою не сложить цены
той жизни, что ни дать, ни взять взаймы.
тот, кто с тобой копал весь этот ров,
тебя оставил в этой пыльной яме.
там холодно, хотя довольно дров.
и нам с тобою довелось посмертно стать друзьями.
ты просто голос, эми. просто тень.
и мне не легче. да меня не лечит.
мне уже скоро, эми, двадцать семь.
до встречи, эми, очень скорой встречи.